
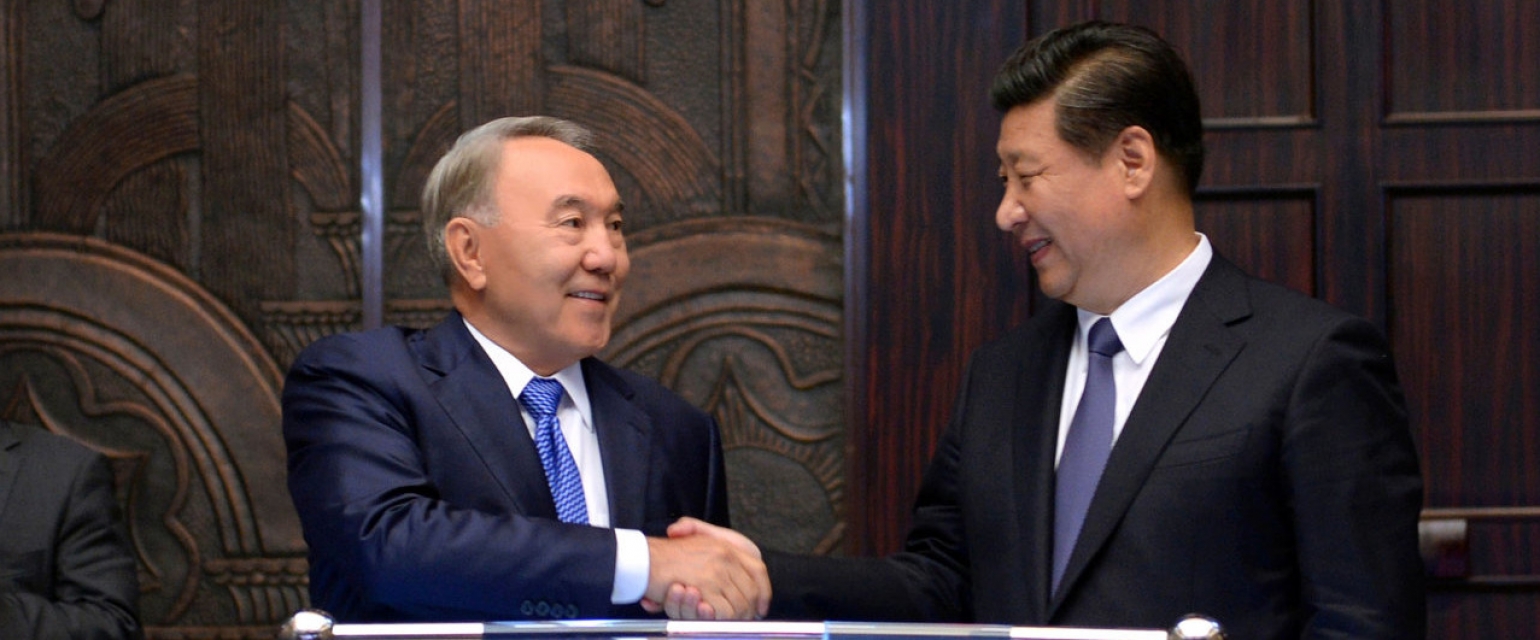
Последние годы и месяцы отметились целым рядом событий, которые внесли существенные коррективы в геополитическую картину Центральной Азии. Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова, продолжающаяся политическая трансформация в Казахстане, недовольство значительной части жителей Киргизии последствиями вступления страны в ЕАЭС и тлеющий конфликт между элитами в Таджикистане создают возможности для изменения баланса сил в регионе. В первую очередь, речь идет о нарастающем влиянии Китая, которое сопровождается поиском оптимальных форм сотрудничества с Россией, сохраняющей здесь свои интересы.
Важность среднеазиатского региона для Пекина определяется совокупностью экономических и политических устремлений, а также проблемами безопасности.
Едва ли не главное значение здесь имеет вопрос обеспеченности ресурсов. Речь идёт и о самих энергоносителях, и о маршрутах их поставок в Поднебесную. Сейчас большинство используемых КНР трубопроводов проходят через потенциально небезопасные для Китая страны и регионы. Проект трубопровода через Мьянму вероятно еще очень долгое время останется лишь на бумаге из-за нормализации Нейпьидо отношений с США.
Выход на среднеазиатский рынок решает разом большинство вопросов, беспокоящих Пекин. Китай получает доступ к богатейшим залежам углеводородов, обеспечивает удобные маршруты их транспортировки и создает благоприятные условия для переговоров о дополнительных скидках на российский газ из Сибири. Политическая конфигурация региона позволяет КНР с самого начала выстраивать энергетическую стратегию диверсифицировано. Так, по мнению аналитика агентства «Внешняя политика» Никиты Мендковича:
"В числе целей Пекина в Таджикистане и Кыргызстане является создание альтернативного транзитного пути в Узбекистан и Туркменистан, источники газа и путь в Иран. Основной путь проходит через Казахстан, но китайские компании заинтересованы в наличии альтернативных маршрутов на случай политических осложнений с Астаной".
Другой важный фактор китайской политики в Средней Азии – вопрос безопасности. С регионом граничит Синьцзян-Уйгурский автономный район, остающийся для Пекина источником внутренних угроз. Уже сейчас порядка 1000 уйгуров воюют в рядах вооруженных исламистов. Дестабилизация среднеазиатских государств неизбежно вызовет здесь новые протесты, подавлять которые придется с применением силы.
Для предотвращения такого развития событий Пекин вкладывает большие деньги, стремясь обеспечить сохранение обороноспособности и экономический рост государств, находящихся в среднеазиатском регионе. В планах Китая значится сооружение на таджикско-афганской границе четырех пограничных постов и военного учебного центра с тренировочными площадками, а текущий долг Душанбе перед КНР уже превысил 1 миллиард долларов, что составляет более половины государственного долга страны. Скептики предостерегают, что вызванные в результате китайских вложений экономический рост и укрепление среднего класса без проводимых одновременно политических реформ могут дать обратный эффект, ускорив и усилив стабилизационные процессы.
Взгляды России и Китая на среднеазиатский регион во многом схожи, но не тождественны. Обе страны не заинтересованы в скачкообразной трансформации правящих там режимов, в отличие от США, которые, наоборот, делают ставку на революционный сценарий. Однако пересекающиеся экономические интересы будут оставаться серьезным фактором, тормозящим взаимодействие Москвы и Пекина. При этом в интересах обоих сторон демонстрировать перед Вашингтоном готовность к самому широкому сотрудничеству регионе. По словам аналитика агентства «Внешняя политика» Геворга Мирзаяна:
«Да, обоим государствам выгодно делать вид, что такой альянс существует или может существовать. С помощью этого призрака Китай оказывает давление на американскую позицию в Юго-Восточной Азии, а Россия — на европейские дела. Однако в долгосрочной перспективе, особенно в треугольнике отношений Россия — США — Китай, некоторые интересы Москвы и Пекина могут и будут расходиться. В том числе в Средней Азии».
В ближайшей перспективе Китай и Россия будут избегать открытых конфликтов в среднеазиатском регионе. Даже если те или иные противоречия всё же будут возникать, стороны предпочтут решать их со всей возможной деликатностью.
В средствах массовой информации и в экспертной среде распространилось представление, что на Украине представлено два типа политических сил – «партия войны» и «партия мира». Это укоренившееся представление ошибочно и может привести к выработке неправильной внешнеполитической стратегии России. «Партии мира» не существует, как не существует и «партии войны».
Расхождение интересов привело к переоценке Россией своих приоритетов в отношениях с Западом. Планы по созданию равноправного мирового порядка не реализовались. США и НАТО неоднократно и в одностороннем порядке использовали силу конфликтах в обход международного права. Независимый внешний курс России по обеспечению своих интересов стал вызывать все больше нареканий на Западе, который начал указывать Москве, что именно она играет «не по правилам».
Несмотря на результаты исламской революции в Иране, общество и элиты трезво смотрят на международное положение Тегерана.
Многие проблемы в республиках бывшего Союза имеют прямое воздействие на внутреннюю ситуацию в России.